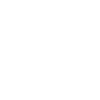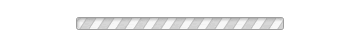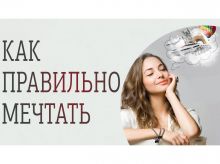Первый шофер Фабричного

Сейчас трудно поверить, но мое родное село сыграло в свое время особую роль в истории нашей страны. Это и первая фабрика Казахстана - Каргалинский суконный комбинат, открытый верненским купцом Сергеем Шахворостовым в 1910 году. Это и одна из старейших мечетей в РК, построенная волостным правителем Сатом Ниязбекулы в 1886 году. А еще здесь старейшая школа в области, летопись которой начинается с 1917 года. Нельзя не вспомнить и первую больницу в крае, действующую с 1910 года.
Но сегодня хочу рассказать о том, что первые грузовые автомобили в регионе стали ездить именно по трассе Фабричный - Алма-Ата, а одним из первых шоферов был мой земляк Курмангали Асырбеков. Родившийся в 1911 году, он навсегда остался в истории нашего поселка.
Окунемся в некоторые страницы из биографии села. В 1932 году Каргалинская суконная фабрика приобрела первый грузовой автомобиль ГАЗ-АА (полуторка) для нужд производства. Одним из первых водителей, севшим за его руль, стал Курмангали Асырбеков. Я с детства хорошо знал этого человека, наши семьи общались. Еще в начале 1930-х годов он получил среднее образование. В те годы Курмангали мог поступить в любой университет Советского Союза, но юноша решил стать шофером. Хочу подчеркнуть, что в начале
1930-х годов профессия водителя была не только редкой, но и очень престижной. Молодой водитель на полуторке возил в Алма-Ату готовые ткани, а привозил необходимое сырье для нужд комбината. К июню 1941 года у фабрики был уже целый автопарк, но началась война. Асырбекова призвали, и уже с 27 июня Курмангали - в действующей армии. Всю войну он провел на фронте, служил в артиллерийском полку старшиной роты, был несколько раз ранен, награжден орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу». Демобилизовавшись летом 1945 года, он возвращается в родной поселок и несколько десятилетий будет работать заведующим гаражом Каргалинского суконного комбината.
У этого человека была удивительная супруга - обаятельная Евгения Николаевна Старожилова. В те далекие 1930-е годы они были одной из самых красивых супружеских пар в поселке. В военные годы Евгения Николаевна работала учительницей начальных классов в нашей школе, а позже многие годы трудилась воспитательницей в Каргалинской школе-интернате. Сотни ее бывших учеников до сих пор рассказывают о ней с благодарностью. Учительница оставила интересные воспоминания о военном времени:
«Соседка сказала: «Женя, началась война!».
Неожиданно приехал муж и спросил:
– Знаешь?
– Знаю, – ответила я.
Услышав это, Курмангали вновь поехал на работу. В поселке стало тревожно. В глазах людей появилась тоска, в голосах - тревога. Весь поселок собирался на площади у репродуктора: ждали новостей. Наших мужей, отцов, детей стали забирать на фронт. Их провожали все мои земляки. Пришла повестка и моему Курмангали. Обняв меня, родственников, он молча садится в машину. Вижу рядом с ним учителя нашей школы Василия Огаркова. На всю жизнь запомнила, как врач нашей поселковой больницы Максим Максимович Репин уходил на фронт со своим докторским чемоданчиком.
В школе проводили почти весь день. Вечерами, после уроков, мы, учителя, вязали носки, варежки. Ждали сводок Информбюро, приказов Верховного Главнокомандующего, которые передавало радио. Иногда оно включало фронт, и мы слушали гул боя, выстрелы орудий, крики красноармейцев... Помню, как-то услышала новость, что Киев взят. Не хотелось сидеть дома, хотелось пережить радость с другими. Я вышла на улицу, и совсем незнакомая женщина обняла меня. «Милая, ведь Киев освободили», – плача, сказала мне она.
В поселок привезли эвакуированных. Их разместили в клубе. Утром собрались в нем почти все жители поселка. На нас смотрели с надеждой люди, которые пережили ужасы войны. Я взяла к себе женщину из-под Москвы с маленькой девочкой. Девочка не по-детски была серьезной. Позже в наш дом пришла жить учительница физики Нина Владимировна Рапп, эвакуированная из Харькова. Жили мы как родные сестры: я оставалась дома – она шла на поле копать мерзлую картошку. Мы были рады, когда за все годы войны нам выдали по три метра ткани. Красноармейским семьям выдавали остатки пряжи (запутанные нитки). Мы распутывали их и вязали юбки, кофты, чулки.
Часто ходила в библиотеку фабрики, ежедневно встречала там старшеклассников. Они серьезно занимались, читали книги. Обычная картина: два чурбачка, а сверху небольшая доска, ученики сидят на полу и выполняют домашнее задание. Писали на газетах между строчек. А как ценили карандаши, берегли «сердечки»! Отмечали Новый год: верили в победу. Из ничего делали костюмы, разыгрывали сценки.
Письма с фронта ждали с тревогой. К приходу почты собиралось человек двести, долго и молча ждали. Почтальоны, чья миссия была страшной, ведь они вручали «похоронки», не считались со временем, быстро разбирали письма и тут же раздавали их. Слезы и смех сопровождали чтение писем. Придешь, а письма от любимого нет: и месяц, и год, и два, и три. Но я всегда верила, что мой Курмангали жив. И вот через три года – письмо! А, получив его, побежала в Узун-Агач, чтобы отправить телеграмму: «Живы, здоровы, ждем!».
Настал 1945-й год. Сижу на крылечке, и вдруг меня будто кто-то шилом кольнул. Подняла голову и вижу: идет «мой» с чемоданчиком. Весь Фабричный собрался у нас дома. Женщины несли гостинцы - кто пяток яиц, кто кружку молока... «Моего не видел? С моим не воевал?» – спрашивали они мужа. Кто-то из женщин привел дочку из детсада. Девочка, которая никогда не видела отца, заводила других детей и говорила: «А вот мой папа». До одиннадцати часов ночи сидели люди у нас. А утром мы пошли к маме Курмангали (там горе – отец погиб). Поздно вернулись из родительского дома, а в комнате чисто: кто-то помыл полы, постелил чистую постель. Это было до слез трогательно».
Исмаилжан ИМИНОВ, Жамбылский район